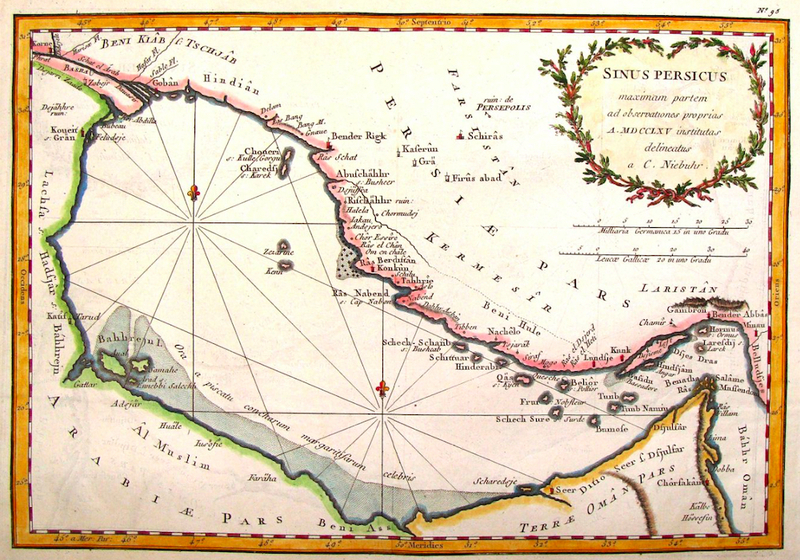Справа: Пастух верблюдов из пакистанского города Гвадар, собирающий воду на ферме в Ибри, Оман
Фотографии Манишанкара Прасада, сделанные в 2019 году
Чем определяется принадлежность и родина в эпоху пандемийных ограничений и цифрового соприсутствия? Публикуем эссе финалиста нашего опен-колла, посвященного границам,— Манишанкара Прасада. В нем он рассказывает о личном опыте мигранта южноазиатского происхождения, выросшего в странах Персидского залива, и о стратегиях выстраивания идентичности, которыми пользуются люди с похожим опытом.
Из-за пандемии границы с большой буквы Г вернулись в нашу реальность. И даже ужесточились, серьезно ударив по транснациональным семьям. Академические теории глобализации, в которых подчеркивается значимость трансграничных потоков, теперь проверяются на прочность отказами во въезде, медицинскими тестами перед поездкой и массовой потерей экспатами и мигрантами рабочих мест. Этому способствует сопровождающая пандемию экономическая изоляция, усугубляемая низкими ценами на нефть. После их обвала в 2014 году полным ходом идет демографическая перекалибровка из-за требований национализации рынка труда, особенно в Омане и Саудовской АравииСаудовской АравииВ стране действует программа Nitaqat, направленная на увеличение количества занятых в частном секторе работников саудитского происхождения., переживающих период финансовой нестабильности. О сокращении численности мигрантов с помпой сообщается на первых полосах оманских газет. Однако эта оптика — палка о двух концах, поскольку постнефтяной Залив из инвестора превращается в магнит, притягивающий инвестиции. Вместе с тем поступающие за счет мигрантов фулус (араб. «деньги») привязаны к конкретным людям. Институциональные инвесторы, следуя новой мегатенденции, ищут свежие активы, но мигранты по-прежнему приезжают, вкладываются личным трудом (или даже тяжело заработанными деньгами) и создают прочные сообщества независимо от текучести своего гражданского статуса в регионе. Относящиеся к разным поколениям, они создают экономику и представляют культуру халиджахалиджаХалидж (араб. «залив») — страны Персидского залива, ставшие домом для многих поколений мигрантов еще до обнаружения в регионе нефти.
, где бы ни оказались.
Для мигранта во втором поколении в Заливе паспорт и виза — реальность, в которую и с которой он рождается. Структурная мимолетность становится очевидной, когда пара чемоданов из последней поездки так и остаются нераспакованными. История моих родителей отражает совсем другой опыт. Они приехали сюда из Мумбаи ради академической карьеры, но отношения с регионом складывались сложно: было ясно, что всю жизнь придется готовиться к выходу на пенсию «дома». Сейчас родители несчастливы в Мумбаи и нередко с ностальгией вспоминают свои дни в Омане.
Мои отношения с регионом — как и других детей Персидского залива — не скованы границами, так как само наше существование определено ими. Протест против временных видов на жительство, которые мы вынуждены продлевать каждые два года, привел к тому, что в нашем воображении как на дрожжах росли альтернативные варианты принадлежности, никак от границ не зависящие. Я пытался разобраться в многоуровневых отношениях с регионом с точки зрения «эмоционального гражданства» — и этот способ открывает осязаемые возможности для принадлежности вне границ.
В годы моего этнографического исследования Маската и Дубая, основанного на методе «соучастного проживания» с мигрантами, я увлеченно изучал стратегии «постграничной» устойчивости. Многие из мигрантов, чья семейная история в регионе начинается в 1960-е годы, вообще ничего не знают о родине и идентифицируют себя через связь с Заливом — как «деси халиджидеси халиджиПредставители семей мигрантов южноазиатского происхождения, на протяжении нескольких поколений живущих в странах Залива.». Хорошей иллюстрацией таких долгосрочных сообществ служат индуистские синдхииндуистские синдхиПредставители этого народа составляют значительную часть торгового сообщества Дубая.
, или выходцы из региона Кач, принадлежащие к влиятельным торгово-промышленным кастам бхатья и банья, или представители торговых кругов Маската и Дубая. Они называют Персидский залив просто бейт (араб. «дом»), даже если у них есть паспорта западных стран и свидетельства заграничного индийского гражданства и сохранились донефтяные идеалы бережливости, которые помогают им держаться на плаву в периоды экономической нестабильности.
Вверху справа: Прачечная в районе Бур-Дубай, где работают мигранты из индийского штата Уттар-Прадеш
Внизу слева: Частная парковка недалеко от станции метро в районе Бур-Дубай, традиционно игравшем роль большого плавильного котла для мигрантов
Внизу справа: Торговый район Руви в Маскате, столице Омана, где расположено множество закусочных для мигрантов
Фотографии Манишанкара Прасада, сделанные в 2019 году
Существует масса литературы, в которой подчеркивается «безродность» южноазиатских или египетских мигрантов во втором и третьем поколении, повзрослевших в странах Персидского залива. Нарративы о постоянной временности воспринимаются как должное, поскольку здесь не существует четкой схемы получения гражданства, как, например, в Канаде или Австралии с их прозрачной системой баллов. В некоторых странах требования к заявлению на получение гражданства были сформулированы, однако всего несколько сотен человек смогли натурализоваться — в Омане в основном индуистские представители касты банья. Объединенные Арабские Эмираты недавно открыли возможность получения гражданства страны для научной элиты со всего мира. В книге Эндрю Гарднера об индийских мигрантах в Бахрейне говорится, что количество семей, получивших бахрейнское гражданство, можно пересчитать по пальцам одной руки.
Фотографии Манишанкара Прасада, сделанные в 2019 году
Я провел в регионе большую часть жизни, много путешествуя и подрабатывая писательством, и чувствую себя в нем как дома. В то же время жизнь в стране, где был выдан мой паспорт, требует от меня некоторых усилий и привычки. Вид на жительство зависит от работы, и пандемия стала последним гвоздем в крышку гроба под названием «ощущение места». В 2017–2019 годах я проводил этнографическое исследование, опрашивая дюжину южноазиатских мигрантов из разных поколений в ОАЭ и Омане, чтобы выяснить, каковы их стремления и как они понимают свою принадлежность к региону. Во время пандемии я застрял в Пуне, получив отказ во въезде и почувствовав беспомощность, но все же продолжил заниматься исследованиями, используя цифровые методы. Именно они и заронили семена концептуализации цифровой чувственности. Будучи харджи (араб. «экспат») во втором поколении, я работал с бизнесменом — индийцем банья в третьем поколении — в Маскате, помогая ему укорениться в цифровой среде. Это дало возможность понаблюдать за связями между мигрантами в нескольких поколениях и регионом — они оказались крепкими, даже несмотря на экономическую воздушную яму, в которую попали эти люди. Границы не мешают мне создавать постструктурные пространства для артикуляции принадлежности в эпоху удаленного доступа.
Участники моего исследования были воспитаны в регионе, а двое из них родились в ОАЭ. Три десятилетия проживания на этой территории не дают им чувства коренной принадлежности: дамоклов меч продолжает висеть над их головами, ведь их визы связаны с работой. Когда я общался с этими людьми, то почувствовал их уныние по поводу того, что в конце концов придется паковать чемоданы и отправляться в чужую страну, неважно где расположенную — на Западе или в Южной Азии. Один респондент, мужчина южноазиатского происхождения, выражал сожаление из-за того, что потратил много денег, получая степень бакалавра естественных наук в ведущем университете ОАЭ. В неофициальной кастовой системе Персидского залива местная научная степень и южноазиатский паспорт в перспективе означают более низкую заработную плату, чем степень западных университетов и паспорт стран — участниц ОЭСР. С начала пандемии респонденты моего исследования планировали оформить документы для получения гражданства Канады.
Потомкам семей, занимающихся бизнесом, легче, поскольку им выдают более надежные визы инвесторов, которые, правда, приходится продлевать каждые два года — при наличии документов о праве собственности и владении акциями. ОАЭ, как обычно первыми в регионе, объявили о новой схеме получения гражданства, предназначенной для успешных бизнесменов и их семей и известной как «Золотая виза». Участвовать в ней можно только элите мигрантского сообщества — по приглашению.
Принадлежность к среднему классу и состоятельной прослойке экспатов и мигрантов теоретически осмыслила индийско-американская исследовательница миграции Неха Вора в рамках концепции «потребительского гражданства» в своей программной книге «Невозможные граждане» (Impossible Citizens). Она пишет о том, что деньги, вложенные в местную экономику, строят фундамент принадлежности. Я хотел бы (пере)формулировать понятие принадлежности в контексте эмоциональной связи с регионом. Я вырос, распевая Королевский гимн и празднуя Национальный день Омана с гораздо большим пылом, чем День независимости страны моего официального гражданства. Это «эмоциональное гражданство» не испаряется, даже когда мы оказываемся в странах нашего происхождения, ведь оттуда мы продолжаем следить за местными новостями в Twitter и вообще остаемся тесно связанными с повседневностью нашей внутренней родины. «Эмоциональное гражданство» как новая аналитическая категория не предполагает полного принятия приютившими нас землями. Эти территории становятся «временными городами», выражаясь словами теоретика-урбаниста Ясера Эльсештави, построенными миллионами трудовых мигрантов в обмен на возможность финансово поддерживать семьи дома.
Справа: Парикмахерская в районе Бур-Дубай, открытая выходцами из Лакхнау и Дакки и служащая местом общения для мигрантов в неустойчивой среде чужого города
Фотографии Манишанкара Прасада, сделанные в 2019 году
В эпоху, которая наступит после пандемии, тысячи людей вернутся домой, некоторые же будут надеяться на возвращение по мере улучшения ситуации. Но все эти семьи будут нести в сердцах Дубай, Маскат или Манаму, поскольку бейт для них — это Залив. Реальность такова, что, даже когда мигранты и экспаты выходят на пенсию и возвращаются в страны происхождения или на Запад, они никогда не чувствуют себя достаточно комфортно: тоскуют по старым добрым временам. Такие чувства редко рассматриваются в рамках академических исследований, посвященных идентичности жителей Залива и их принадлежности. Для их родителей эта территория была когда-то землей возможностей, а их дети сделали ее по-настоящему своей. У любого региона есть оборотная сторона, и большинство исследований реалий Залива сосредоточено на негативных аспектах, например на системе «кафалакафалаСистема управления трудом мигрантов в Заливе привязывает работника к единственному местному работодателю. Многие считают это нарушением прав человека.». Но эта земля предоставила многим возможности для лучшей жизни, в отличие от стран официального гражданства. Залив после пандемии призовет своих мигрантов, хотя и в меньшем количестве. И он всегда будет моим домом. Шаурма и мятный чай в ресторане Turkish House в Аль-Хувайре, районе Маската, где я вырос, — вот неизбывное воспоминание, которое не может стереть никакая граница.
Сегодня Instagram превратился в ресурс для воспитания чувств повседневной принадлежности, поскольку позволяет мне наблюдать за любимыми местами для отдыха в Дубае, такими как Центр искусств Джамиля, Галерея современного искусства в Дубае или первая мобильная выставка в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби. Возможность следить за происходящим — надежный якорь преемственности, поскольку, пока тело находится в стране официального гражданства, разум витает в магазинах Karak Chai («Арабский чай») на базаре Мина в районе Бур-Дубай.
Если говорить про меня, то идентичность «деси халиджи» влияет и на литературное творчество. Я пишу этот текст с надеждой, что рассказ о миграции в Персидском заливе выйдет за рамки понимания границ как средства положения пределов.
Перевод с английского Екатерины Захаркив