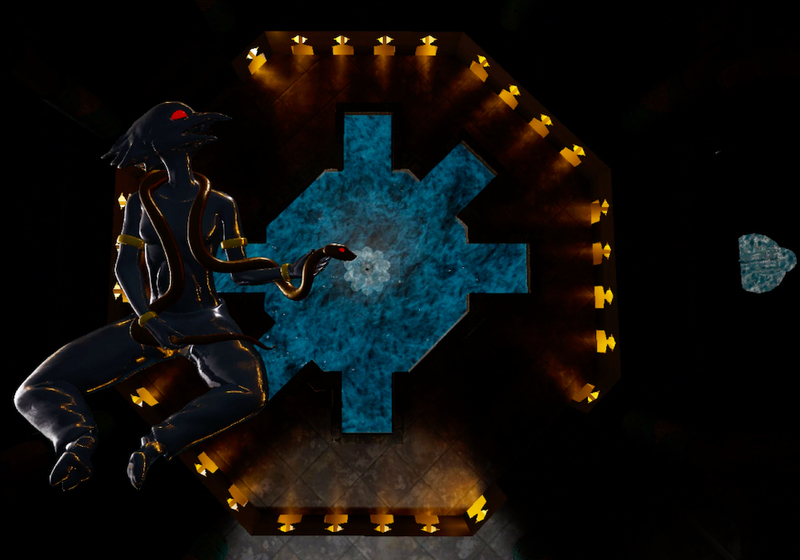Деколониальные исследователи Мадина Тлостанова и Вальтер Миньоло обсуждают знания, что лежат за пределами европейской модерности, и то, какие виды человечности могут существовать вне антропоцентристских установок. Это первый материал из серии «Неявные знания» (Tacit Knowledges) — разработанной CCA образовательной программы, которая посвящена различным способам понимания философии и взаимодействия с ней. В серии бесед участники проекта высвечивают незападные эпизоды в философской истории и дают эпистемологиям, которые были отвергнуты как иррациональные или несистематические, возможность быть услышанными.
. Она отвергает другие модели космологии, эпистемологии и мышления (как правило, связанные с неевропейскими пространствами и немодерной темпоральностью) как пред- или протофилософию или как этническую философию, априори несовершенную и нуждающуюся в улучшении, в подгонке под стандарт евромодерного рационализма. Таким образом, крайне неупорядоченная транскультурная история идей подвергается систематическому отбеливанию, чистке и вестернизации. Примерами такого обмана может служить утверждение прямой связи между философией античной Греции и современной западной мыслью, не принимающее во внимание как «компрометирующее» влияние Египта, Индии, Персии и Ближнего Востока; а также игнорирование мусульманской эллинистической андалузской философской традиции, без которой многие памятники древнегреческой философии были бы навсегда утрачены для будущих поколений.
Более того, согласно этой логике, современная неевропейская философия оказывается оксюмороном, поскольку, чтобы стать «современной», она вынуждена отказаться от собственных этнокультурных особенностей и приспособиться к некоей общепринятой однородной делокализированной норме, которая сама по себе подвержена изменениям и зависит от мимолетной моды — сейчас таковой является новый материализм, пытающийся реабилитировать онтологию. Тем не менее все новые нормы по-прежнему определяются философской элитой Запада и глобального Севера, упорно пребывающей в «санкционированном невежестве»«санкционированном невежестве»Gayatri Spivak, A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing Present (Boston: Harvard University Press, 1999), 2-4. и сравнивающей каждое философское яблоко со своим эталонным апельсином. Веками блуждающая в трех соснах собственных родовых противоречий и нестыковок, ригидная современная европейская философия не просто устарела, но превратилась в угрозу для человечества, равно как и для всего живого — в угрозу для нашей планеты. Поэтому сегодня необходимо не только привлечь внимание к неявным знаниям и заглушенным голосам, сделать их слышимыми и видимыми, но и создать условия для горизонтального диалога между ними, не нуждаясь в одобрении и посредничестве евромодерности, хотя и не исключая при этом возможности диалога с западной критической мыслью, после того как ей будут возвращены ее подлинные весьма скромные масштабы и она будет усмирена. На мой взгляд, важно не сохранить или усовершенствовать философию, не восстановить равенство репрезентации, но скорее вспомнить, для чего была и остается необходимой философия.
Проиллюстрирую вышесказанное двумя примерами. Я родился и получил образование в Аргентине. В университете изучал философию и литературу — дисциплины, формирующие блок так называемых гуманитарных наук в трехчастной структуре, состоящей из наук естественных, общественных и гуманитарных (не учитывающей, впрочем, профессиональное высшее образование). Родольфо Куш (1920–1979) был философом немецкого происхождения. Его родители переехали в Аргентину после Первой мировой войны. Он с детства говорил на немецком, что оказалось очень кстати для студента философского факультета. Западная философия разочаровала его своей ограниченностью, и большую часть жизни он посвятил попыткам понять «мышление коренных народов и простых людей» (el pensamiento indígena y popular). Именно так называется его главный трудего главный трудRodolfo Kusch, Indigenous and Popular Thinking in América, translated by Maria Lugones and Joshua Price (Durham: Duke University Press, 2011)., переведенный на английский язык. Куш определяет рамки своего исследования, выделяя два подхода к философствованию в Латинской Америке (América): официальный и частный. Первый, эксплицитный, — это изучение в университете европейских проблем и вопросов, которые принято обозначать как философию. Второй же, имплицитный, — это то, как мыслят люди на улицах, в деревне, в горах. Куш обратил внимание, например, на то, что Кант и Гегель выражали мироощущение буржуазии своего времени, не имеющее никакого отношения к Аргентине — бывшей колонии, где не могло возникнуть буржуазии, похожей на европейскую. Глубокие размышления Куша, как и его целенаправленные исследования, неизменно отталкивались от колониальной генеалогии Аргентины и от памяти, восприятия и исторической траектории Латинской Америки.

Предоставление слова тем, кто долгое время был его лишен, — вовсе не экзотическое упражнение в позитивной дискриминации, но необходимый шаг для большей части мира и прежде всего для пространств, ставших точками пересечения множества зависимостей и форм несвободы (имперских, идеологических, экономических и других). Взять, например, культуры коренных народов Кавказа, Урала, Сибири, жителей Арктики и колонизированные народы Средней Азии. Их онтологии, эпистемологии, этические и эстетические системы и представления планомерно принижались как недостойные называться знанием или (в случаях, когда отрицать их очевидное преимущество перед евромодерным каноном или предшествование ему было уже невозможно) — целиком и полностью помещались в прошлое.
Предоставление слова тем, кто долгое время был его лишен, — необходимый шаг для большей части мира
Характерным и весьма эффективным тактическим приемом советской колониальной системы была смена письменности и алфавитной традиции, в результате чего нарушалась преемственность, а опыт предыдущих поколений мог передаваться исключительно устно. Так, на Северном Кавказе древние виды письменности были утрачены еще в эпоху до нашей эры. С начала XIX века представители местной интеллигенции пытались создать алфавиты своих родных языков, основанные на арабской графике и гораздо реже — на кириллице или латинице. Все эти инициативы были подавлены навязанной сверху советской исламофобской программой по внедрению латиницы в 1920-е годы и кириллицы после 1936-го. Устный характер местной литературной и музыкальной культуры, а также культуры знания, равно как и тот факт, что письменная фиксация и поиск новых форм сохранения наследия предков для будущих поколений только начинались, сделали их крайне уязвимыми для культурной агрессии большевиков. Скорость, с которой менялись системы письменности, лишила людей доступа к собственной культуре. В исторической науке даже сегодня довольно редко встречаются упоминания пылающих в ранние советские годы по всему Кавказу и Средней Азии гигантских костров из напечатанных арабским шрифтом книг, в которых сгорала основанная на арабском письме предшествующая письменная традиция — не только религиозная, но и естественно-научная, историографическая, философская и художественная. Некоторые издания были буквально закопаны в садах их образованных владельцев, отказавшихся, в соответствии с положениями ислама, отдавать благородные книги на позорное сожжениепозорное сожжениеKalpana Sahni, Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the Colonization of Caucasus and Central Asia. (Oslo: White Orchid Press, 1997)..
Давно и непрерывно существующие эпистемологические таксономии хорошо известны и постоянно подвергаются критике со стороны множества мыслителей. В этой связи вспомним лишь две наиболее яркие работыдве наиболее яркие работыKishore Mahbubani, Can Asians Think? Understanding the Divide between East and West (Hanover, NH: Steerforth Press, 2001); Hamid Dabashi, Can the Non-Europeans Think? (London: Zed Books, 2015). — «Могут ли азиаты думать?» (Can Asians Think?) Кишора Махбубани и «Могут ли неевропейцы мыслить?» (Can Non-Europeans Think?) Хамида Дабаши. Тем не менее ничего не меняется, и нормативная рамка евромодерности продолжает навязываться остальным способам понимания мира. Глобальный институт производства знания сегодня, как и раньше, поддерживает асимметричное разделение интеллектуального труда. Ярким свидетельством тому служит экономика одобрения и легитимации посредством перевода и публикации на английском, а также комментариев и анализа западных экспертов. И даже твое упоминание о переводе книги Куша на английский — яркий пример подсознательной нормализованной асимметрии, согласно которой любое интеллектуальное сотрудничество должно осуществляться исключительно посредством английского языка и с высшей санкции англофонных интеллектуальных элит. Я, кстати, не уверена, что Куш будет когда-нибудь переведен на русский.
По-моему, одна из важнейших проблем — это отсутствие горизонтальных «глубинных коалиций», как их называлаих называлаMaria Lugones, Pilgrimages/ Peregrinajes. Theorizing Coalition against Multiple Oppression (New York and Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, 2003), 98. Мария Лугонес. Хотя голосов, критикующих сложившуюся структуру, множество, они все еще изолированы друг от друга, и каждый из них ведет собственную заведомо проигранную битву с чудовищной евромодерной системой производства знания. Почему же у нас и других не относящихся к ней мыслителей нет искреннего взаимного интереса друг к другу? Почему у нас нет желания изучать и обсуждать идеи друг друга независимо от того, что на это скажет европейская модерность? Эта неспособность к горизонтальному объединению — печальное свидетельство успеха модерной/имперской политики «разделяй и властвуй», формирующей комплекс неполноценности, который переходит от одного поколения к другому в соответствии с логикой вечного запаздывания. Очевидно, пришло время поставить под вопрос те рамки, тот каркас, на котором зиждется знание или то, что считается таковым, вместо того чтобы бездумно наращивать на него новую информацию. Этот каркас невозможно исправить, его необходимо полностью разобрать и построить новый. Однако как это сделать? Достаточно ли для этого деколониального расшатывания системы изнутри, или же нам нужны более радикальные стратегии? Что ты думаешь по этому поводу?
. Для Хайдеггера мышление заключалось в языке как таковом, в «использовании языка» — languaging (согласно терминологии Умберто МатураныУмберто МатураныHumberto R. Maturana, “Languaging as a manner of flowing in recursive con-sensual coordination of behavior, is a manner of living in coordination of doings, not a manner of symbolizing the features of an independent reality. That is, languaging is a manner of living in doing things together in the particular domain of consensual doings in which the languaging is taking place through the flow of the interactions of the participants. We human beings exist in language, and as we language we can say nothing outside language.” The Nature of Time. November 27, 1995.
). Хайдеггер, судя по всему (или — скорее всего), полагал, что немецкий подходит для мышления лучше других. Мне же более близким кажется предложенное Матураной разделение на использование языка, languaging (действия, которые мы производим с языками, нами же и созданными), вербализацию (устную или письменную) и мышление. Животные способны к мышлению, но не умеют обращаться с языком или использовать язык в той мере, чтобы изобрести мышление второго порядка, которое древние греки и назвали философией.
Человечество не сидело сложа руки, ожидая, пока греки начнут думать
Таким образом, освобождаясь от иллюзии и заканчивая с философией, мы неизбежно начинаем снова мыслить. Конец философии возможен потому, что мы имеем дело с человеческим изобретением, но конец мышления не наступит никогда, поскольку речь идет не только об основополагающем для человеческого организма процессе (когнитивная деятельность носит биологический характер), но и об энергии, приводящей Вселенную в движение и дающей ей жизнь. Вера в то, что мышление является исключительной привилегией человека, — не более чем предрассудок, порожденный западными индивидуализмом и антропоцентризмом.
Впрочем, говоря о людях, стоит отметить, что мышление всегда напрямую вписано в наши жизненные практики. Несмотря на биологический характер познания, жизненные практики людей формируются культурой, и языки, сохраняющие тысячелетний опыт народов Центральной, Восточной и Южной Азии, Южной Африки, Карибских островов, Южной Америки или латиноамериканцев в США, также сохранили их способы мышления. Только в контексте европейских жизненных практик возник определенный способ мышления, который древние греки назвали философией. Но это не значит, что человечество было вынуждено сидеть сложа руки, ожидая, пока греки начнут думать.
Зачем вообще обращать внимание на философию, если можно вместо этого сосредоточиться на мышлении в своих собственных терминах? Лесбийская чикана (мексикано-американская) философка Глория Ансальдуа особо выделяет явление, которое она обозначила термином la facultad. На первый взгляд можно подумать, что оно восходит к «Спору факультетов» Иммануила Канта (1798). Кант предлагал реорганизовать систему производства, передачи и освоения знаний в университете как части Государства с целью образования и воспитания граждан формировавшихся в тот момент национальных государств, то есть зарождающегося класса европейской светской буржуазии. В силу своей этнополитической и квир-ориентации Ансальдуа не была заинтересована в том, чтобы приспособиться к университетской системе производства знания и регулирования познания. Она стремилась освободиться от этого диктата. Именно поэтому и разработала концепцию la facultad. В чем же последняя заключается?
La facultad, по словам АнсальдуаАнсальдуаGloria Anzaldúa, Borderland/La Frontera. The New Mestiza (San Francisco: Aunt Lute, 1987)., — это «способность видеть в поверхностных феноменах смыслы более глубинных реальностей... Это непосредственное чувствование, мгновенное восприятие вне осознанного осмысления». Тогда la facultad — это не что иное, как живая энергия, развивающая и сохраняющая неявное или имплицитное знание. Говоря о неявном знании, мы говорим о чем-то нам известном, однако la facultad — это не знание само по себе, а способность познавать во всех изменяющихся ситуациях и в каждой из них в отдельности, это готовность и способность живого организма к познанию. Помогая нам понять управляющую, контролирующую институциональную функцию философии, Ансальдуа отмечает, что, «обладая этой чувствительностью» и осознавая ее, освобождая, а не подавляя (а философия выступает именно в качестве механизма подавления чувствительности), мы становимся «мучительно живыми»«мучительно живыми»Ibid.
. Более того, она добавляет, что те, кто готов высвободить энергию la facultad, ощущают на себе репрессивное действие колониальности знания, ощущения и верований, одним из важнейших инструментов которого является философия. Под колониальностью знания я имею в виду сам собой разумеющийся разум, классифицирующий и оценивающий действительность знания и верность способов познания. Ансальдуа, таким образом, утверждает, что к проявлению «la facultad всегда готовы те, кто подвергается наибольшим гонениям — женщины, гомосексуалисты всех рас, темнокожие, изгои, преследуемые, маргинализированные, иностранцы». Обладающий такой чувствительностью становится мучительно живым.
Сегодня пришло время указать западной философии на ее место. Философия имеет право на существование в тех закутках, где она приемлема и полезна, однако для большинства населения планеты никакой нужды в философии нет.

Сегодняшний экологический кризис — следствие неполноценности философии модерности, в основе которой лежит онтологическое отчуждение, изъятие человека из мира и занятие им делокализованной позиции, из которой он наблюдает за миром и познает его в условиях онтологического разрыва. В итоге полностью теряется мера в потреблении, которую можно обнаружить не только в космологиях, экономиках и этических системах коренных народов, но и у ряда животных.
Деколониальный подход мог бы отменить дихотомию природы и культуры и совершить сдвиг к перспективе комплексной соотносительности и процессуальности восприятия наших сложных отношений с планетой
Словом, до тех пор, пока мы будем воспринимать природу как другое человека, культуры и цивилизации, продолжит процветать антропоцентризм, пусть и в парадоксальной форме самокритики. Поэтому даже наука не в состоянии помочь западноевропейской философии выбраться из тупика, в котором она оказалась. Деколониальный подход, напротив, мог бы отменить дихотомию природы и культуры как таковую и совершить сдвиг к перспективе комплексной соотносительности и процессуальности восприятия наших сложных отношений с планетой, с другими жизнями и с неодушевленной материей. Поэтому необходимо серьезное переосмысление воспринимающихся как естественные и активно навязывающихся мировоззренческих концепций и подходов к пониманию мира.
Философия и колониализм (colonialism) — впрочем, мы с тобой, как и Сисеко, предпочитаем термин «колониальность» (coloniality) — контролируют и формируют мышление тех, кто находится по отношению к ним в подчиненном положении. По сути, философия является неотъемлемой частью колониальности знания. Ни для кого уже не секретне секретOlivia Goldhill, “Philosophy is the new battle ground in Africa´s fight against colonialism.”, Quart, September 2018., что «в колониальной Южной Африке образовательная система открыто обосновывала превосходство белых, и следы этой крайне расистской системы заметны до сих пор в большей части южно-африканского образования: основным языком преподавания является английский, а не местные языки, такие как зулу и сесото. Африканские исследования в университетах по-прежнему занимают незначительное место, а в курсах философии прерогатива отдается европейским мыслителям».
Развивая эту идею, мы придем к выводу, что, поскольку философия в современной западной системе высшего образования входит в блок гуманитарных наук, то мы вслед за африканскими авторами можем утверждать, что «философия и гуманитарные науки неотделимы от колониальности и, таким образом, служат инструментами формирования мышления подчиненных субъектов». В таком случае, если философия и гуманитарные науки — это инструменты колониальности знания, «обосновывающие превосходство белых», то и сама колониальность знания, инструментами которой являются философия и гуманитарные науки, в свою очередь, — инструмент расовой классификации и выстраивания иерархии. Тогда обнажается связь гуманитарных наук (humanities) с понятием человека (human) как мерила, с помощью которого те, кто не вполне вписывается в эту категорию, классифицируются на основании расы, пола, национальности, языка, религии и так далее. В таком случае черные мыслители, присваивая философию, отвергают свою мнимую неполноценность в качестве людей и рациональных существ. Постчеловеческого для них не существует. Они заинтересованы в восстановлении своего права принадлежать к человечеству, в котором им отказывали «человек (human) и гуманитарные науки», и обнажают при этом бесчеловечность самого «человека», равно как и философии и дисциплинарного конструкта «гуманитарных наук» в целом, опосредованно свидетельствуя, что проблема постчеловеческого актуальна лишь для западных философов (или подвергшихся идеологической обработке мыслителей незападного мира), укорененных в собственной региональной памяти и традиции и ограниченных ими.

Однако в гораздо большей степени меня беспокоит невероятная популярность той разновидности критического философского постгуманизма, которая восходит к Спинозе, Ницше и Делезу и разрабатывает положения так называемого нового материализманового материализмаRosi Braidotti, The Posthuman (Cambridge: Polity Press, 2013).. Сторонники критического постгуманизма призывают выйти за границы антропоцентризма и расширить понятие жизни, включив в него нечеловеческое как жизненно важную силу. Впрочем, эта постгуманистическая утопия все еще предполагает исключение тех, кто был и остается лишен права принадлежать к человечеству и, соответственно, в равной степени к гуманизму, антигуманизму и постгуманизму. Мне нравится точка зрения немецкой исследовательницы Сабины Брёк, нашей подруги и коллеги, по мнению которойпо мнению которойSabine Broeck. Gender and the Abjection of Blackness (New York: Suny Press, 2018), 179.
, данный тип постгуманизма «предает забвению черное (и — добавлю от себя — любое другое лишенное права принадлежать к модерности и к человечеству) знание как социально, политически и культурно окаменелое, принадлежащее целиком прошлому, — только для того, чтобы подчеркнуть превосходящий характер постгуманистической витальности». Брёк обращает внимание на ограниченность такого одностороннего мышления, сосредоточенного на настоящем и «настаивающего на имманентности в противоположность исторической меланхолии»«настаивающего на имманентности в противоположность исторической меланхолии»Ibid.
. В этом, по-моему, и заключается основной недостаток евромодерного мышления, а именно — безразличие к проявлениям насилия со стороны модерности по отношению ко всем, кто был признан в недостаточной мере современным и принадлежащим к человечеству, чтобы быть включенным в социум на равных правах с остальными и заслуживающим этичного отношения.
Важно уменьшить тотальность «человека» и предоставить равные возможности для существования множеству других людей и нечеловеческих форм жизни
Таким образом, критический постгуманизм антиисторичен, он не учитывает исторической неоднородности человеческого и остается постгуманизмом привилегированных социальных групп, не принимающих во внимание растраченные жизни тех, кто оставался обесчеловеченным на протяжении веков. Игнорируя темную историю травм, колониальных ран, боли и страданий, постгуманизм отбрасывается назад к старым неразрешенным дилеммам гуманизма, по большому счету пытаясь восстановить под новым, более привлекательным названием (витализм, zóé) того же белого западного субъекта. Прислушаемся вместо этого к давно существующей критике гуманизма и человека, исходящей из неевромодерных источников.
Для деколониальной мысли важно уменьшить тотальность «человека» и предоставить равные возможности для существования множеству других людей и нечеловеческих форм жизни. Тогда параллельно со Спинозой, Ницше, Делезом и Брайдотти возникнет иная генеалогия мыслителей, в которой будет присутствовать, например, Франц Фанон и его концепция социогенезасоциогенезаFrantz Fanon, Black Skin, White Masks (NY: Grove Press, 1967). или Сильвия Уинтер, предложившая понятия «Человек 1» и «Человек 2» и концепцию этногуманизмаэтногуманизмаSylvia Wynter, “Towards the Sociogenic Principle: Fanon, The Puzzle of Conscious Experience, of 'Identity' and What it’s Like to be 'Black,'” in: M. Duran-Cogan, A. Gomez-Moriana, eds., National Identity and Socio-Political Change: Latin America Between Marginalisation and Integration (New York: Garland), 30-66;
Sylvia Wynter, “Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human After Man, Its Overrepresentation—An Argument”, The New Centennial Review (3:3), 257-337.. Деколониальный взгляд проблематизирует гуманизм и человека не для того, чтобы продолжить вектор развития в сторону постчеловеческого или вовсе отвергнуть человеческое во всех его проявлениях, но чтобы попытаться осмыслить как сам гуманизм, так и человечество с точки зрения тех, чья принадлежность к человечеству долгое время ставилась под сомнение или отрицалась. Здесь мы можем говорить не о постгуманизме, но об «ином гуманизме» — планетарном диалогическом гуманизме обесчеловеченного другого, вырастающем из специфической локальной истории, субъектности и темполокальности. Этот иной гуманизм не стремится возродить однородную идею я как суверенного индивида или вернуться к предшествовавшим постструктурализму представлениям об идентичности. Напротив, Сильвия Уинтер понимает «человека» как практику, а не существительное. Не будем забывать, что люди, лишенные права принадлежности к человечеству, испытали на себе то, что Николай Карков называетназываетNikolai Karkov, “From Humanism to Post-humanism and Back: Notes on the Geopolitics of Knowledge.” Личность. Культура. Общество (№ 15.3-4:2013), 52-70.
«истинной природой гуманистической фикции — тот факт, что фиктивность либерального субъекта не делает его менее реальным» или, еще точнее — менее подавляющим.
, имеющему ключевое значение для нашего диалога: «Даже такая прогрессивистская метатеория, как марксизм, претендующая на универсализм, может привести к понятийному насилию».
Основополагающая логика, которую Карков иллюстрирует приведенным примером, — это логика колониального (а также имперского) различия, вынесенная в заголовок его работы. Имеется в виду постгуманизм. Утверждение, что он преодолевает антропоморфизм человеческого и гуманизма, вполне уместно как эксплицитно провинциальная составляющая североатлантического интеллектуального пространства, вписанного в образность западной цивилизации. Однако эти идеи совершенно неуместны в ЮАР, Боливии или Китае. Я приведу лишь один пример из собственной практики: я много лет занимался изучением космогоний и космологий древних цивилизаций Тауантинсуйу (располагавшейся на территории сегодняшних Боливии, Перу, Эквадора и на севере Чили) и Анахуа (занимавшей пространство сегодняшней Мексики, Гватемалы и части Гондураса). В этой работе мне помогали современные мыслители из коренных народов, до сих пор придерживающиеся собственных космологий, несмотря на то, что им ежедневно приходится вступать в компромисс с Государством. Государство организует и контролирует общество — они же существуют в общине. Общество — западный концепт, получивший широкое распространение в конце XVIII века и особенно в XIX веке, — отрезало человека от остальных живых организмов, от всего мира, превратившегося в природу, которая, впрочем, была изобретением не XVIII века, но средневековой западноевропейской христианской культуры.
Однако для того, кто постоянно живет в общине, будучи физически и психологически окружен Государством, не стоит вопроса постчеловеческого, поскольку он в собственном сознании никогда не попадал в ловушку фиктивного «человеческого». «Индейцы» были «людьми в меньшей степени» с европейской точки зрения, но не с точки зрения самих «индейцев». Разумеется, они ощущали свою ущербность по отношению к европейцам, что оставило на них определенный отпечаток. Тем не менее не утратили общинности и cosmo-vivencia, направляющих их жизнь, — и их восстановлением продолжают усиленно заниматься сегодня. Поэтому для коренных неевропейских народов проблемы человеческого и постчеловеческого являются исключительно европейскими; даже европеизированное население южноамериканских Анд воспринимает постгуманизм как чуждое явление. Схожие процессы мы можем сегодня наблюдать и в Африке, где также происходит воссоздание и возрождение местных ментальных и жизненных практик. Африканцы и Африка как континент были исключены из провинциальной европейской философской образности; «индейцы» и «черные» воспринимались как онтологически неполноценные и эпистемологически недоразвитые. Второе стало следствием первого, и наоборот. В колониальных сплетениях и системе распределения власти, как заметил еще Фанон, четыре причины Аристотеля не действуют. Они не проводят различий между руна (то есть ощущающими себя так видами) и остальным живым миром. Все относительно и постоянно находится в движении. В рамках этой космологии не могло возникнуть квантовой физики, поскольку она предполагает представление о Вселенной как складывающейся из элементов, а не из отношений между ними. Последствия таких основополагающих предпосылок колоссальны, но их обсуждение заняло бы у нас слишком много времени.
Правила создаются людьми, но мышление не подчиняется человеческим правилам.
В рамках провинциальной логики, основанной на бинарных оппозициях (и не присущей никакой другой цивилизации того времени), средневековый западнохристианский мир изобрел «культуру» — как все то, что делают люди, — и «природу» — как то, что не было ими создано, изготовлено. Не был учтен при этом один принципиально важный факт, напрямую связанный с большинством проблем, с которыми нам приходится иметь дело, включая заботы узкого круга европейских и американских интеллектуалов (преимущественно белых или «обеленных» североатлантическими образовательными институциями с помощью «универсалистских вымыслов», как сказал бы гаитянский антрополог Мишель-Рольф ТруйоМишель-Рольф ТруйоMichel-Rolph Trouillot, “North Atlantic Universals: Analytic Fictions, 1492-1945.” South Atlantic Quarterly (101/4:2002), 839-858.), а именно то, что человек был создан «природой». Игнорирование этого факта привело к двум печальным последствиям.
Одним из них стала концепция человеческого/человека (которую ты акцентировала, говоря о блестящих работах Сильвии Уинтер) и антропоцентризма. Разумеется, если мужчина/человек отрицает свою «зависимость» от «природы» (как будто живые организмы не нуждаются в воздухе, воде и еде, производимых землей, и в солнечном свете, необходимом для любой жизни, не говоря о том, что Солнечная система — лишь одна мизерная частица из многих в бесконечной и неизведанной Вселенной, причем довольно небольшая), то центральное положение человека (anthropos) начинает восприниматься как данность самим человеком (anthropos), придумавшим эту модель, эти образы, эти универсалистские вымыслы.
Второе последствие, которое я имею в виду, — это изобретение и развитие современных западных технологий, начавшееся в эпоху промышленной революции XVIII века и продолжающееся в XX веке и далее в виде революции кибернетической, подготовившее почву для возникновения в конце XX века концепции антропоцена. Катастрофической чертой промышленной революции оказалась ее зависимость от невозобновляемых ресурсов, без которых машины не могут функционировать. И в этом случае мы вновь видим степень важности упомянутого выше недостающего звена: машины — продукты культуры, которые целиком зависимы от природных ресурсов. Создатели машин, уверенно сделавшие ставку на количество, ни на минуту не задумывались о возможных непреднамеренных последствиях своих действий. Масштаб производства имел значение для умножения капитала, однако он же наносил серьезный ущерб условиям жизни на планете и людям, чей труд эксплуатировался. Росло и количество живых существ, страдающих от последствий искусственно созданной бедности. Оставляя за скобками тот факт, что кибернетическая революция также нуждается в природных ресурсах (в первую очередь литии и колумбите-танталите), и потому ее можно назвать прямой наследницей промышленной революции, я хотел бы отдельно отметить и некоторые ее последствия.
Наблюдается рост «рабской» зависимости от малой техники (например, ноутбуков или смартфонов) в повседневной жизни. Контроль за населением, который, как опасались многие, будет осуществляться силами Государства, уже производится с помощью технологий, без которых наша жизнь непредставима, вне зависимости от того, стоит ли за ним Государство. Иными словами, слежка и управление со стороны Государства, банков, корпораций возможна именно благодаря этой зависимости от кибернетических технологий.
Искусственный интеллект — очередной итог игнорирования природы в европейской антропоцентричной картине мира. Разработка искусственного интеллекта ставит перед собой цель сократить расходы и увеличить прибыль за счет миллионов людей, исключенных из кибернетической «Вселенной».
Я подхожу к завершению своего комментария, призванного поддержать твою точку зрения на постгуманизм, и надеюсь, что хоть в какой-то мере помог осветить главную тему нашей сегодняшней беседы — рассмотрение западной философии как региональной концепции, регулирующей тем не менее человеческое мышление. Правила создаются людьми, но мышление не подчиняется человеческим правилам. Не может существовать протомышления и постмышления, хотя можно себе представить предшествующую и следующую за древнегреческой философию. Не может существовать прото- и посттехники (как, возможно, и прото- или постдизайна) в качестве стратегии выживания, но может существовать дозападная и постзападная современная технология (например, промышленная и кибернетическая революции). Техника (наравне с использованием языка, languaging, и руки) — врожденная способность организмов, которые на Западе себя окрестили людьми, обособив от Природы, в южноамериканских Андах назвали себя руна, включив в космос или Пачамаму, а в Китае взяли имя рен, став частью Поднебесной. Разум, мышление и сознание — не привилегии человека (anthropos как субъекта антропоцентризма), но лишь имена, данные этим человеком созидательным силам, без которых его самоидентификация была бы невозможной, и мировым энергиям, разделяемым по-разному и в разной степени всеми живыми существами и выходящим далеко за пределы антропоцентричного эго.
Перевод с английского Дмитрия Тимофеева
Фотографии из серии «Надежда на острова» (Island Hoping) были сделаны Кристиной Димитриадис в 2019 году в северной Греции, тесно связанной с детством художницы, и на архипелаге Фурни Карсеон между островами Икария, Патмос и Самос. Эта территория важного геологического, геополитического и исторического значения часто упоминается в новостях в связи с тем, что с древних времен оно было известно как кладбище кораблей, а теперь находится на смертельно опасном пути мигрантов из Западной Азии в Европу.
Геологический ландшафт Средиземноморья, состоящий из многих островков, напоминает о моряцком восклицании «по курсу земля», используемым, чтобы оповестить о близости суши, и желанным как для мореплавателей, так и потерпевших кораблекрушение. Эти скалы могут быть частями островов или одиночными образованиями; далекими утопиями или детскими мечтами. Но также они могут быть сухими, недоступными, безжизненными и враждебными. В Средиземноморье, усеянном знакомыми человечеству со времен Одиссея островами и скалами, затаившийся утес может проглотить или раздавить любого. В искусстве тема жизни и смерти всегда связана с оптимистичной трактовкой механизмов психической защиты от всего, что угрожает жизни или идентичности; сдвигов границ, с помощью которых человек справляется с чем-то, угрожающим его существованию. Игра слов в названии проекта Димитриадис, где убрана одна согласная, превращает перемещение (hopping) от острова к острову, от скалы к скале в состояние подвешенности между надеждой (hoping) на собственную стойкость и непредвиденное крушение, конец путешествия.
Денис Захаропулос