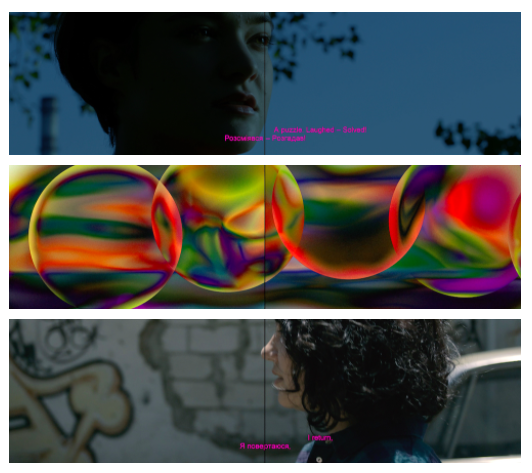За свою долгую карьеру Раби Беаини заработал славу одного из самых прогрессивных музыкантов и кураторов современной экспериментальной и электронной сцены. Он прошел долгий путь от первых диджей-сетов в 1990-х в родном Ливане до создания в Италии собственного лейбла Morphine Records, который стал почти культовым после переезда Раби в Берлин. Он экспериментировал с аналоговым техно под именем Morphosis; курировал такие фестивали, как немецкий CTM и Urvakan в Армении; а также издавал записи артистов-новаторов из Западной Азии, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. На излете карантина в Берлине Раби поговорил с куратором Андреем Зайлером о Ливане, своих музыкальных корнях и о том, как сберечь культурные традиции, непрерывно двигаясь вперед.
Таков был мой план. Я начал платить аренду, но меньше чем через две недели весь город закрыли на карантин. Так что я оказался один на один с огромным пространством, до которого было легко добраться, несмотря на ограничения, – оно находилось в 200 метрах от моего дома. Я начал ходить туда один каждое утро. Установил там кое-что из своего столярного оборудования, сделал несколько полок для библиотеки, шкаф и кое-какие другие вещи для мастерской. Конечно, работа в одиночестве шла гораздо медленнее, чем могла бы, но в то же время она позволила мне отрешиться от происходящего. Все сложилось как нельзя лучше, ведь так мне удалось преодолеть это безумие. Честно говоря, я считаю, что мне очень повезло.
Фотографии Франсуазы Болечовски
Но этот парень, Асси Хеллани, превратил одну из таких песен в радиохит. Мы слышали ее повсюду. Было кое-что, что отличало ее от других в том же жанре, — техника сведения. Бит — который, кстати, записал лучший перкуссионист Ливана — звучал громче всего в треке. Так что в техническом смысле этот трек был сведен так, как сейчас сводят техно. К примеру, в рок-музыке самыми громкими обычно делают звук гитар и вокал, а в техно-музыке на передний план выходит бит. В этой песне бит был очень простой. Его сыграли на табле — двустороннем бубне, который исполнитель вешает на плечо и бьет по нему палками. Это был традиционный инструмент, на котором играли традиционным способом, но его звук в записи был очень мощным.
Этот парень не просто стал знаменитостью — он оказал беспрецедентное влияние на подход к продюсированию музыки во всем Ливане. После него все начали использовать точно такой же стиль сведения. Местные продюсеры откапывали горы традиционных песен, о существовании части которых мы даже и не догадывались. Это веяние добралось до стран Залива и Сирии и превратилось в целую индустрию. В то время все перестали слушать какую-либо западную музыку — она больше никому не была интересна. Единственная песня полностью изменила музыкальную сцену. Конечно, я говорю сейчас о широкой аудитории — в Бейруте на тот момент уже существовала художественная среда, далекая от этого. Они занимались совсем другими вещами. Сам же я в то время слушал все, что попадалось мне под руку, — от хип-хопа до поп-музыки, даже Майкла Джексона. Но когда я услышал ту песню, она подарила мне чувство ритма.
В то время в Ливане были и другие вдохновляющие артисты, которые особенно изобретательно экспериментировали с музыкой. Одним из них был мой любимый ливанский певец Алейн Мерхеб, тоже выходец из сельской среды. Это был грандиозный артист — очень недооцененный в Ливане, — который интересовался традиционной и арабской музыкой, пришедшей прямо из племен, из настоящей арабской культуры. Он работал с традиционным звуком, добавляя к нему синтезаторы, и создавал дроун-музыку, накладывая вокал поверх нее так, что он, казалось, парил в воздухе. Кроме того, Ален использовал уникальную систему настроек высоты тона голоса, из-за чего он многим казался странным, но для меня сложно было придумать что-то лучше.
В маленьком городе в горах, где мы проводили каждое лето, есть мечеть, а на другой стороне долины стоит христианская церковь. Каждый день в шесть вечера по местности разносился звук колоколов одновременно с призывом к мусульманской молитве. Это всегда был один и тот же голос. Пожалуй, это до сих пор мой любимый азан: мне очень нравился тембр, акцент и то, как муэдзин исполнял его. Этот азан казался мне умиротворяющим и завораживающим — даже во время войны. Я рос христианином, и из-за того, что мне так нравился азан, мне казалось, будто я совершаю какой-то грех. Мне так казалось тогда, но я все же не утратил свою веру.
Думаю, исламская духовная и религиозная музыка — одна из самых прекрасных на свете. Я понимаю, как мусульманам удалось завоевать столько территорий — не только при помощи оружия, но и при помощи культуры. Их призыв к молитве схож с заклинанием змей. Его невозможно не любить — ты почти что становишься мусульманином. Хочется выучить каждое слово и знать, о чем они говорят. Ты думаешь: «Я хочу быть с ними, потому что они зовут меня». Это безумно сильная вещь. Думаю, колокола в христианской культуре обладают тем же эффектом.
В каком-то смысле что-то подобное происходит во всем мире прямо сейчас. Вся эта ситуация с вирусом, по-моему, убивает музыку, превращает ее в нечто не просто необязательное, но и почти что пробуждающее чувство вины. Музыка вообще подталкивает людей к тому, чтобы собираться, создавать сообщества, танцевать вместе и делиться переживаниями. Онлайн-выступления и стримы, конечно, тоже производят какой-то эффект, но, будем все же честны, — это совсем не то же самое.
Когда «традиционная» музыка по всему свету не обновляется, мы, можно сказать, помещаем ее под стекло и апроприируем ее образ
До изобретения фонографа музыка была просто музыкой. Существовала популярная музыка, классическая музыка и фолк-музыка. Не было никакой фиксации на традиционной музыке в чистом виде как на чем-то, что необходимо сохранить. То, что мы хотим сохранить сейчас, — это лишь отпечаток момента в истории этой музыки. Давай представим, что мы впервые встретили человека, которому 45 лет. Мы фотографируем его, и в нашем сознании он остается таким же, каким был в тот момент. 40 лет спустя мы вновь встречаем этого человека, он уже гораздо старше, и мы не узнаем его, потому что на фото он остался тем же. То же самое происходит, когда «традиционная» музыка по всему свету не обновляется. Мы, можно сказать, помещаем ее под стекло и апроприируем ее образ.
Так что же такое «традиционная музыка»? Что за ярлык мы на нее навешиваем? Если ты сознательно начинаешь манипуляции с ней, что-то к ней добавляешь, уничтожаешь ее и затем восстанавливаешь, то в действительности ты не только сохраняешь музыку, но и даришь ей новую жизнь. Через тысячу лет что-то, что ты записал при помощи синтезатора или лэптопа, возможно, будет считаться традиционной музыкой.
Другое мое знакомство с традиционной музыкой и способами, которыми с ней можно работать и развивать ее, произошло благодаря Tarawangsawelas. Это еще одна группа из Индонезии, которая исполняет современную версию tarawangsa — священной музыки сунданской Западной Явы. Вместе мы организовали там резиденцию, во время которой я начал узнавать что-то о tarawangsa. Затем я отправился в деревню, в которой эта музыка зародилась и где ее в основном только и исполняют. Мне повезло напрямую пообщаться со старейшинами, и я спросил их: «Что, если эта музыка будет исполняться за пределами деревни немного по-другому, но при помощи тех же инструментов? Скорее, как посвящение ей, которое не будет касаться ее священной части или создавать некий гибрид. Оскорбит ли вас это?» Ведь речь здесь идет не только о традиции, но о действительно священной музыке. К моему удивлению, они сказали, что tarawangsa — это ритуал, живущий там, в Ранкакалонге, но музыка есть музыка, и она может путешествовать куда угодно. «Она не принадлежит нам, — сказали старейшины. — Она частично пришла из Китая, частично — с Ближнего Востока. У вас есть ребаб (традиционный арабский струнный смычковый инструмент, распространившийся по всему миру по торговым путям. — Прим.ред.), который мы немного изменили и сделали свой инструмент для tarawangsa. Вообще-то он больше ваш, чем наш». Другими словами, они имели в виду, что на самом деле нельзя ничего апроприировать, и это стало самым важным уроком, который эти люди мне преподали.
Также я работаю над проектом с Абделем Каримом Шааром, но он займет еще какое-то время. Это очень популярный в Ливане, даже легендарный, тараб-вокалист. Тараб — это вид классической арабской музыки, которая зародилась в регионе Дамаска, Египте и Ливане в начале XX века. Это классическая музыка, которую обычно годами изучают в консерватории, с нотной записью и исполнением с оркестром и хором.
Кроме того, осенью у нас выйдет альбом PRAED Orchestra! Это запись их выступления в Sharjah Art Foundation, одной из крупнейших художественных институций на Ближнем Востоке. Участники ливанской группы Praed привезли с собой 13 музыкантов и создали с ними полноценное произведение, в живом исполнении которого затем приняли участие Алан Бишоп, Jerusalem In My Heart, Нада эль-Шазли, Морис Лука, Майкл Зеранг и многие другие. Сама вещь — очень разнообразная и длинная египетская или арабская оперетта. Каждый трек радикально отличается от других, но затем все они сплетаются в единую композицию. Это удивительный материал — прекрасно сочиненный, исполненный и записанный.
Конечно, есть множество других интересных музыкантов, с которыми я бы хотел поработать. Есть и лейблы из Ливана и Египта, такие как Nawa, к примеру, с которыми я уже работаю. Для меня важно, чтобы эти музыканты были активны, записывали музыку, а я мог поддержать их, предлагая в лайнапы, куратором которых выступаю. Их продвижение — это самое важное, что я могу сделать. И мне вовсе не обязательно издавать их на Morphine, чтобы быть ближе к ним.